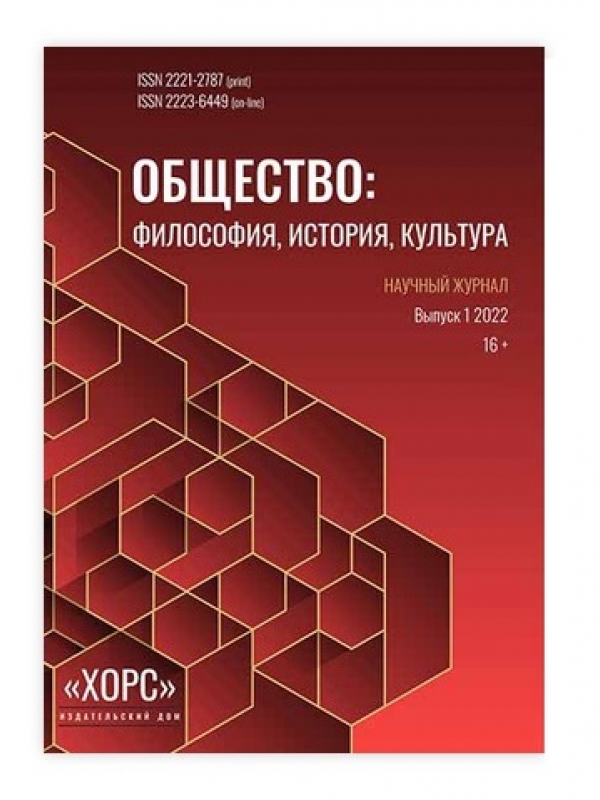В 2020 г. издательство «Садра» переиздало книгу Мухаммада Икбала (1877–1938) «духовного отца Пакистана», как его нередко и, пожалуй, напрасно именуют (возможно, так фактически получилось или так его стали представлять, но он сам, несомненно, бы возразил), в русском переводе Мариэтты Тиграновны Степанянц, подготовившей также предисловие и комментарии к данному произведению (Степанянц, 2020). М.Т. Степанянц на сегодняшний день – единственный в России специалист по социально-философским аспектам творчества М. Икбала.
Своё предисловие к работе Икбала Степанянц начинает с постановки вопроса «Можно ли считать Мухаммада Икбала мусульманским Лютером?», что кого-то может удивить. Ведь следует иметь в виду, что Лютер протестовал против организационных устоев католичества, а в исламе нет и не может быть иерархии, сравнимой по функции и роли с католическим клиром. Но если вчитаться в текст «Реконструкции религиозной мысли в исламе», представляющий собой цикл лекций, по большей части прочитанных М. Икбалом в ряде индийских городов, то подобное сравнение с Лютером (И. Сингх) уже не кажется невозможным, ибо цель у обоих деятелей была однотипной – воссоздание схем религиозного мышления, которые бы привели к преобразованию на социально-политическом и иных уровнях жизнедеятельности религиозной общины.
Как известно, Мухаммад Икбал – потомок кашмирских брахманов, которые в XVII столетии приняли ислам. И, вероятно, присущая этому сословию набожность и тщательность исполнения религиозных обязанностей психологически унаследована личностью Икбала от предков. Эта черта вкупе с хорошим гуманитарным образованием определила его преданное и одновременно трезвое отношение к исламу и тому, как мусульманская община существовала в тогдашней Британской Индии. Ряд политических событий в XIX в. и на рубеже столетий привёл к обострению проблемы индийских мусульман, использовавшейся британской колониальной политикой в своих целях. А это в свой черёд стало причиной ответной активности индийских мусульман, которые видели решение индусско-мусульманских отношений в расширении исламского мировидения: именно просвещение индийских мусульман, создание новой программы по возрождению ислама, которая бы учла все достижения европейской науки и культуры (алигархское движение), должно было поправить ухудшающееся положение мусульман в Индии. Юный Икбал впитал эти идеи, что нашло отражение в его раннем поэтическом творчестве.
В своём предисловии к русскому переводу «Реконструкции…» Степанянц освещает биографические и идеологические аспекты творческой биографии и эволюции М. Икбала, которые делают понятнее его стремление критически переосмыслить историю ислама и эскизно предложить проект общинного переустройства. Требовалось, с одной стороны, «укрепить волю к действию» у отдельного индивидуума (Степанянц, 2020: 13), а с другой, высвободить умму, мусульманскую общину, понимаемую как целое, из пут бездействия и самоуспокоенности, в которых мусульмане на протяжении многих веков пребывали, позабыв о деятельном духе раннего ислама (давние известные военные антииндуистские эксцессы правителей Делийского султаната и последнего из Великих Моголов, Аурангзеба, значимого отношения к индийской умме не имели). Ведь Икбал по-своему понимал внутреннюю сплочённость нации (это западное понятие он также применял в значительной мере уникальным образом): она «должна заключаться не в этнической, географической, языковой или социальной однородности, а в общности религиозного и политического идеала или в психологическом факторе “единомыслия”» (Степанянц, 2020:15), мы бы сказали, в общности горизонта смыслов.
«Реконструкция…» включает в себя 7 лекций, из которых каждая представляет собой цельный текст, связанный с другими в одной тематической направленности – ислам и его главнейшие понятийные основания (знание и религиозный опыт, философская проверка откровений, концепция Бога и смысл молитвы, человеческое Я и т. д.).
Мы не станем подробно обсуждать содержание данного труда, но примем за отправную точку нижеследующих соображений по его поводу, что перед нами незаурядная попытка не столько «реконструировать религиозную мысль ислама», сколько положить новое, сообразное первой трети XX века и условиям колониальной Индии начало, иными словами, по-русски, –воссоздать интеллектуальную традицию.
В отличие от представителей исламского обновления, принадлежавших к предшествующим поколениям, например, аль-Афгани (ум. в 1897 г.) или Сайида Ахмад Хана (ум. в 1898 г.), писавших и мысливших на языках своей цивилизации (арабском, персидском, урду), Мухаммад Икбал – не только превосходный поэт на урду и персидском, но и человек европейски образованный, мысливший также и на английском языке. Это делает его книгу событием в мусульманском обновленчестве, поскольку западный понятийный инвентарь английского существенно отличается от такового развитых языков мусульманского цивилизационного ареала. В использовании автором тех или иных терминов, которое нам, тоже принадлежащим к европейской культуре, представляется простым и естественным, нередко следует видеть результат акта осознанного выбора. Это же в значительной мере относится и к приведенным Икбалом западным ссылкам и источникам. За всем этим стоит понятийная работа. Именно её основания нас и будут интересовать. Здесь мы видим поле для применения разрабатываемой одним из авторов теории цивилизационно-специфичной рациональности. В ней выделяется четыре фундаментально отличных исторически сложившихся типа организации ума и деятельности, два из которых – западный и ближневосточный.
Для начала нетривиальными оказываются даже сами английские слова «религия» и «религиозный». Словари, разумеется, дают для «веры» (faith) и «религии» арабские (они же и персидские, и также на урду) эквиваленты اىمان и دين .При этом первое слово преимущественно субъективно-психологическое (стало быть, «вера»), а второе – подкрепляется чем-то объективно констатируемым и социально значимым (скорее «религия»). Однако задача прояснять сложные понятия перед лексикографами не стоит. Интересно для сравнения отметить, что в истории нелёгкого освоения образованными индуистами, современниками и соотечественниками Икбала, европейского понятия «религия» возобладал в конце концов совершенно индийский, не переводимый обратно с тем же значением санскритский термин dharma (Halbfass, 1988) – собственно «то, на чём жизнь и смысл держится», а у бирманцев-буддистов для религии был принят эквивалент sāsana – «(по)учение, наставление». Ни индуисты, ни буддисты не нуждались до встречи с англичанами в понятии «религия».
Полагаю, что и мыслящие мусульмане почти настолько же не испытывали в нем потребности до столкновения с западной цивилизацией. Им вполне хватало таких своих терминов, как «ислам», противоположность его – «джахилийя» («невежество», т.е. незнание единства бытия – «таухида»), а также применявшегося к иудеям и христианам выражения «люди Писания». Признание же единства бытия, которое в западных понятиях привычно передаётся как «исповедание единобожия», следует счесть не характеристикой ислама как «религии», а краеугольным камнем соответствующей цивилизации, которую ниже предлагается именовать «афразийской» (АА). К ней же принадлежит более древняя и менее многолюдная иудейская культура, в которой точно так же, как и в исламе, признание Бога является не неким «исповеданием веры», а знаком принадлежности к определённой цивилизации, сфере её смыслов и общности ее носителей.
Конечно, афразийская цивилизация, в отличие от южноазиатской, имела давние и тесные контакты с Западом, в том числе и высоко интеллектуальные, но тем не менее по-европейски считать ислам «мировой монотеистической религией», а не самым распространенным основанием ментальности данной цивилизации как таковой будет аберрацией взгляда. Подкрепить этот тезис очень просто: в западной цивилизации давно возможен атеизм, чему в мире ислама места вовсе нет. Согласившийся с каким-то вариантом европейского атеизма араб или перс тут же покидает смысловое пространство своей цивилизации и оказывается в западном мире. Так что Мухаммал Икбал сделал, по сути, заметно большее, чем сказано в заглавии его труда, а именно предложил предпринять обновление смысловых основ ислама. Далее, обратим внимание на то, что в своих лекциях он почти никогда не употребляет характерно западного термина «личность», предпочитая говорить о человеческом и божественном «я».
Можно было бы подумать, что всё объясняется его нехристианским контекстом. Ведь общеизвестно, что понятие личности, отсутствовавшее в античной философии, было разработано раннехристианскими мыслителями и впервые применено для философского постижения Бога, лишь во вторую очередь будучи приложено к человеческому индивиду. Однако этого объяснения недостаточно. За использованием у Икбала превращённого в понятие «я» стоит существенно большее. Для пояснения придётся описать одну из важнейших черт отличия западной цивилизации от афразийской. В своих схематизациях коммуникации, пользования речью их представители выделяют в качестве центрального разные, взаимно дополняющие аспекты. В западном варианте в центре внимания находится сообщение, речевое выражение в связи со своим смыслом и с тем в мире, о чём оно говорится.
Как-то понималось (можно сказать, подразумевалось) и тем более применялось это уже в древности, но окончательную формулировку получило в так называемом треугольнике Фреге: «выражение – смысл (или сигнификат) – значение (или денотат)». Например, «голубые ели на Красной площади» – смысл, понимаемый читателями этого выражения, причём, что важно, один и тот же, т. е. не являющийся феноменом чьей-то психики, событием индивидуальной жизни – наконец, то в центре Москвы, о чем это сказано. Отметим: здесь нет и быть не может отсылок к тому, кто это написал (к автору статьи) и кто воспринял (её читателям). Участники речевого акта принципиально игнорируются. Совершенно безразлично, кто сказал, принимается во внимание лишь что и о чем.
Итак, в классической западной схеме коммуникации не предусмотрено никаких субъектов, реальные участники разумного разговора все взаимозаменимы. Субъект был на Западе один – это языковой разум, логос, безразлично через какого индивидуума себя проявляющий. Именно поэтому раннехристианские мыслители, уверовавшие в учение, по своему происхождению (афразийское (древнееврейское)) встали перед необходимостью рационально дополнить схему, а не только выразить свою веру – так они изобрели понятие личности.
А теперь обратимся к афразийскому решению. В центре его – не содержание и не предмет, но участники речевого акта: говорящий, Я и адресат(ы) – один ты или многие ты. При этом Я иерархически выше Тебя, в самом деле: есть множество коммуникативных ситуаций, в которых большинству участников запрещено подавать голос, их дело – почтительно внимать. С этим признанием коррелирует неявное убеждение, что тот, кто говорит, не только «важнее» адресатов, но и говорит нечто значимое, и чем в большем числе ситуаций он по праву занимает место говорящего, тем более «истинны» его слова. Это убеждение поначалу может показаться странным и наивным. Однако учтём, что схематизм афразийского решения вызревал ещё в ранней древности (несомненно, что он обнаруживается уже в Пятикнижии), а ближневосточная древность характеризовалась и тесным соседством, соперничеством, и нередкими войнами небольших сообществ, и частыми природными бедствиями (наводнениями, засухами). В каждом сообществе слово имеют прежде всего старшие, «мудрейшие». Именно их надлежит слушать. И мы, наше сообщество (город, кочевье и т.п.), живы до сих пор потому, что наши предки слушали и слушались своих старших. А неслушавшие погибли в войнах с соседями и от стихийных бедствий.
Наконец, в отличие от личности, которую можно долго обсуждать и мыслить в рамках рассмотрения её внутреннего мира, знаний, вкуса, её возможно пассивного отношения к происходящему, её ценностей и переживаний, то есть отвлекаясь от её деятельности, «я» – это прежде всего действующее и заявляющее о себе в речи как действии начало, что кардинально важно для исламской рациональности. Вот поэтому у Икбала речь идёт о многих «я», а не о личностях.
Указание на участников важного коммуникативного акта, восстановление цепочки передачи от последнего звена к источнику, а далее к источнику источника (что по-арабски «иснад»), подобное указанию своей родословной, – чрезвычайно характерная черта в исламских текстах. Конечно, исток этого приёма следует искать в бесписьменном обществе, но он удержался и в развитой цивилизации с изменением своей функции. В другой цивилизации, индийско-южноазиатской, этот прием наблюдается только в самых архаичных текстах, например, в некоторых старших упанишадах, а также в позднейших ссылках на преемственность линии передачи духовного знания. Последнее находит точное соответствие в суфийских сильсила, но в арабо-исламской культуре употребительность его не ограничивается эзотерической духовностью.
Совершим теперь в рассмотрении иерархичности участников коммуникативного акта предельный переход, т.е. ответим на вопрос, кто же тот говорящий, которого всем остальным и всегда, когда он высказывается, надлежит слушать. И есть ли он?
Разумеется, он есть, ибо он должен быть, ведь без постулирования, а затем и обнаружения его вся иерархическая структура говорящих и внемлющих осталась бы без окончательной основы (выступив принадлежностью чисто методического уровня), как без онтологической основы оказалась бы (будучи тогда техническим приёмом мысли и не более) западная структура субстанциального мышления без введения Аристотелем двух предельных точек его гилеморфической шкалы: философского бога как формы форм, мыслящего (мыслящей) своё мышление, с одной стороны, и немыслимой бесструктурной первоматерии (μη ον) на другом конце. Конечно, предельный говорящий – Аллах, а его речь – Коран. Введение иерархии возвещающих и внемлющих также коррелирует со специфичным для афразийской рациональности накладываемым ограничением на мышление.
В западном варианте рациональности разум порождает великое множество сохраняемых в дальнейшем важных разумных текстов – научных дисциплин, кодексов законов, философских теорий и т. д. Во многих случаях более позднего, спустя ряд поколений, размышления, будь оно совместным или одиночным, эти продукты прошлых событий мысли могут использоваться и используются как уже готовые, т.е. их вновь не продумывают. Однако всегда сохраняется идеализация, согласно которой их можно при необходимости распаковать, иными словами, продумать от себя. Эта идеализация необходима для сохранения самой основы западной рациональности – субстанциального единства мышления, лишь проявляющегося через индивидов или рассудительные сообщества. Напротив, в афразийском решении, не абстрагирующемся от участников коммуникации, в точке отправления речевого сообщения непременно предполагается как явно высказанный в словах смысл, так и ум и действие ума того, кто эту речь произвёл. Этот последний аспект остаётся непроявленным, скрытым. Вместе данная пара соответствует фундаментальной метакатегориальной парадигме «явное – скрытое» (по-арабски «захир-батын»), подробно описанной и обоснованной в трудах А.В. Смирнова (Смирнов, 2015; Смирнов, Солондаев, 2019). Схватывание коммуникации с помощью этой пары позволяет, во-первых, не исключать метафорическое, образное, поэтическое, даже загадочное из так понятой рациональности, тогда как на субстанциально мыслящем Западе исключение образности и поэтичности из Логоса было необходимым и вынужденным решением.
Монологичное мышление по своему духу прозаично, образность и поэтичность мешают рациональности. Так полунеявно полагали до тех пор, покуда Витгенштейн не написал свой трактат (Витгенштейн, 1958) и затем не споткнулся о полную бесплодность (стерильность) полученного результата, что заставило его обратиться к концепции речевых игр. Но эти важные интеллектуальные события относятся к околосовременной эпохе саморазложения рациональности классического Запада. В афразийском же горизонте смыслов всегда присутствуют тексты, исходящие из ума очень веского автора, изрекшего нечто чрезвычайно существенное. Распаковать их и сделать актами своего мышления невозможно. Единственное уместное и возможное отношение к ним – герменевтическое толкование, что означает почтительное внимание и сообщение другим, как у меня это получилось. Герменевтические толкования, в отличие от результата распаковки чужого текста в своём мышлении, всегда неокончательны; они могут сильно разниться, и эти различия не должны трактоваться как несовместимости или противоречия. Классический Запад вовсе не знает герменевтического отношения; помимо процедур логической распаковки, он нуждается разве что в филологическом обеспечении глоссами старинных или диалектных текстов (ср. античные комментарии к Гомеру). Впервые идею герменевтики принёс в западную рациональность ставший посмертным апостолом Павел, по образованию – учёный раввин, который различил в Писании дух (т.е. скрытое, ум) и букву (явное, текст). И первоначально герменевтика в западной цивилизации прилагалась только к Писанию. Но в афразийской она наличествовала всегда. В исламском варианте она представлена традицией толкования Корана. В работе Икбала мы встречаем немало цитат из священной книги мусульман и, следует признаться, русского читателя без соответствующей подготовки аяты и предлагаемые Икбалом толкования оставляют в тяжёлом недоумении и перед неприятным выбором: считать ли себя совсем несообразительным или приписать автору склонность к смысловому произволу. Но ведь дело в том, что герменевтика любого почтенного текста требует особой, нелогической подготовки, оживления и тренировки иных способностей обращения к смыслу, чем привычное рассуждение, отправляющееся от понятных посылок. Икбал такую подготовку получил, изучая Коран с четырёхлетнего возраста.
В ряде высказываний Икбала мы находим точное отражение описанной А.В. Смирновым (Смирнов, 2015; Смирнов, Солондаев, 2019) процессуальной интуиции смысла, что подкрепляет верность его теории. Ведь Икбал –человек с родным индоевропейским языком урду, в котором есть и глагол-связка, и склонность к субстанциализации сущих. Но это не помешало ему, благодаря полученному мусульманскому богословскому образованию в семье, воспринять процессуальную арабо-исламскую интуицию. Ниже приводимые цитаты взяты из его второй лекции.
(1) «Существовать в реальном времени – не значит быть скованным путами последовательного времени, но это означает следующее: творить его момент за моментом, а также быть абсолютно свободным и самостоятельным в творении».
(2) «“Вещь” – производна. Мы можем выводить “вещи” из движения; мы не в состоянии выводить движение из неподвижных вещей».
(3) «Если мы примем движение как изначальное, статичные вещи могут быть производными из него».
(4) «Мир, который кажется нам собранием вещей, не является однородным веществом, заполняющим пустоту. Он – не вещь, а действие».
Наконец, отметим обоснованность поначалу кажущегося неожиданным скачком перехода к рассмотрению молитвы в третьей лекции. В-первых, он опирается на два классических произведения АА философии, две робинзонады познания, принадлежащие каламам Ибн Сины и Ибн Туфейля и названные одинаково «Повесть о живом, сыне Бдящего». И во-вторых, мы видим по тексту, что от констатации: «Знание Природы становится знанием Божественного поведения. В нашем наблюдении за Природой мы фактически стремимся к своего рода близости с конечной Реальностью; а это лишь иная форма поклонения», которая чем-то напоминает западную идею двух книг (природы и Библии), появившуюся на пороге Нового времени, коей обосновывали правомерность науки (в исламских робинзонадах, впрочем эта идея была высказана много раньше и увереннее), автор переходит к утверждению: «Фактически молитва должна рассматриваться как необходимое дополнение к интеллектуальной деятельности наблюдателя природы». В западном личностном контексте вряд ли можно понять этот тезис адекватно. По-видимому, Икбал опирается на всё ту же афразийскую схематизацию акта речи, а равно и на понимание таухида как знания, а его отсутствие как джахилийи. В речи мы получаем знание от других умов, тогда как в научном познании пользуемся лишь своим умом. Иерархически наивысший ум сообщает нам знание, иначе не доступное. В молитве же, как во вторичной речи, молящийся просит высший ум ответить ему, то есть даровать знание. В отличие от «религиозного» в привычном для нас смысле, никаких просьб, обращённых от человеческой личности к божественной, здесь не подразумевается. Однако мистическим актом она, конечно, признаётся. В АА цивилизации гармония рационального и мистического признаётся издавна, но и в западной рациональности находились смелые духом, не причастные к трусости академизма, которые с этим соглашались. Альберт Швейцер прямо пишет, что мистицизм есть закономерный предел рационализма (Швейцер, 2002).
В последних лекциях имеет еще смысл отметить размежевание идей автора и юнгианской психологии. Подытоживая наше выборочное рассмотрение понятий и концепций, применявшихся Икбалом в его труде, подчеркнем, что достойное обсуждение и понимание его лекций будет продуктивно лишь при учете межцивилизационных различий в смысловых интуициях. Без этого подход окажется поверхностно-политологическим, отчасти религиоведческим, а это не позволит отдать должное глубине мыслей автора.
Авторы: Андрей Всеволодович Парибок, Рузана Владимировна Псху (Российский университет дружбы народов, Москва, Россия)
Журнал «Общество: философия, история, культура» о книге Мухаммада Икбала «Реконструкция религиозной мысли в исламе» (2023. № 4. С. 41–48)
Ссылка на источник статьи
Список источников:
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 133 с.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций : очерки о герменевтике. М., 2008. 695 с.
Смирнов А.В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл. М., 2015. 712 c.
Смирнов А.В., Солондаев В.К. Процессуальная логика. М., 2019. 160 с.
Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока XIX–XX вв. М., 1974. 190 с.
Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX–XX вв. М., 1982. 248 с.
Степанянц М.Т. Предисловие // Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М., 2020. С. 5–29.
Степанянц М.Т. Философия и социология в Пакистане. Очерки. М., 1967. 150 с.
Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика. СПб., 2002. 288 с.
Halbfass W. India and Europe: An Essay in Understanding. Albany, 1988. 622 p.
Iqbal S. The Ardent Pilgrim. An Introduction to the Life and Work of Muhammed Iqbal. Delhi, 1997. 181 р.
McDonough Sh., Salierno V. The Flame of Sinai: Hope and Vision in Iqbal. Lahore, 2002. 249 р.
Sevea I.S. The Political Philosophy of Muhammad Iqbal: Islam and Nationalism in Late Colonial India. Cambridge, 2012. 234 р.